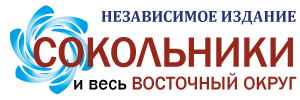Фронтовик Дмитрий Сидорович Григоришин жил в Богородском. Интервью с ним состоялось в апреле 2012 года, когда герою было восемьдесят пять лет, а в ноябре того же года его не стало. Но мы помним об этом интересном человеке — ветеране Великой Отечественной войны, полковнике в отставке, двукратном чемпионе Европы 1955 года по пулевой стрельбе в составе команды и серебряном призёре в личном первенстве, четырёхкратном чемпионе и многократном рекордсмене СССР.
…Пацаны через щели старого покосившегося плетня с любопытством рассматривали колонну немецких войск, особенно их заинтересовали мотоциклы с колясками. А уж когда танки загудели, так повскакивали и, не прячась, глазели на махины. Где ж деревенские мальчишки могли видеть такое! Вон летом 1939-го в поле за селом военные учения проходили, так там красноармейцы на лошадях сидели. А тут! Потрясенные, долго молчали…
Немецкий порядок
Через несколько недель после вторжения на территорию Советского Союза регулярные части гитлеровцев, двигаясь маршем в сторону Бердичева, в июльском мареве поднимали пыль на главной улочке Малой Деревички Любарского района житомирщины. А спустя ещё какое-то время по этой же улице конвоиры с собаками гнали наших военнопленных на железнодорожную станцию Печановка, что в пятнадцати километрах от села. Четырнадцатилетний Митя чувствовал горечь и безысходность от сознания, что сделать ничего не может. Он утешал себя только тем, что старший брат выучился в Ленинграде на лётчика и сейчас где-то бомбит этих гадов.
Хлопцы помочь нашим не могли, а бабы нашли способ: они бросались на шею тому, кто шёл с краю, обнимали, плакали, называя любым мужским именем, выводили солдата из колонны. По первости охранники отпускали этих мужчин якобы домой. После поняли, что не может быть столько односельчан в каждом строе пленных, и собаками стали отгонять женщин. Но несколько человек удалось таки спасти…
Ветеран Великой Отечественной Дмитрий Сидорович Григоришин воскрешает в памяти яркие, не померкшие за давностью эпизоды тех лет. Да, ему было четырнадцать в начале войны, и он успел закончить семь классов. Когда фашисты установили свой режим на оккупированных украинских территориях, вынужден был пойти работать на них, так как комендант района запретил угонять в Германию тех, кто трудится на полях. Весь скот изъяли ещё летом 1941-го, потому пахали и возили урожай на раненых и забракованных старых полуслепых лошадях.
Правда, парней постарше обучили управляться с маленькими тракторами, присланными откуда-то из-за границы для повышения производительности труда. Мальчишкам к ним доступа не было. Дважды Митя был бит надзиравшим за работниками офицером: «Он что-то лопочет по-своему и колотит, так и не понял за что». Конечно, захватчики и их прихвостни полицаи вели себя как хозяева на житомирской земле. По подозрению, не говоря о провинности, с людьми расправлялись на месте. Митя был потрясён, когда у него на глазах расстреляли семью знакомых евреев за то, что национальностью не вышли… Боялись фашисты только партизан за дерзкие вылазки и ночные набеги. Охотясь за продовольственными запасами, они то мешки с мукой вывезут с мельницы, то овощи со склада. Как-то и Митю схватили, когда он вёз на обозе капусту на станцию, думали — партизан, допросили и отпустили, выяснив, что кочаны предназначены для отправки на фронт. Однажды в доме родителей случился опасный эпизод.
Отец, неграмотный крестьянин, и мать с двумя классами церковно-приходской, очень гордились, что старший сын стал большим человеком — военным лётчиком, и не сняли со стены его фотографию в форме. Немец, тыча в неё пальцем, повторял «Капут! Капут!», а батя, участник Брусиловского прорыва, не понаслышке знакомый с понятием «честь», упрямо вертел головой и отказывался убрать снимок. В воздухе повисло напряжение. Предугадать, чем закончится спор, не мог никто. Если бы офицер знал, что бравый лётчик уже дважды летал бомбить Берлин, вряд ли махнул тогда рукой и ушел…
Немецкий порядок просуществовал до конца 1943-го. Последними в декабре уносили ноги полицаи, а 1 января 1944-го село освободили. Бои его не задели, бомбы и снаряды рвались совсем рядом — в соседней деревне и в лесу, иногда долетая почти до Малой Деревички: не меньше месяца длилось противостояние на дороге Бердичев — Шепетовка. А подростки каждый день бегали на пригорок и наблюдали за театром военных действий, мечтая также бить врага и гнать его взашей.
На фронте
Как оказалось, хватило и на их долю. Рождённых в 1927-1928 годах стали призывать осенью 1944-го. Уже все товарищи ушли, а очередь Григоришина всё никак не подходила. Ещё летом учитель собрал их — они вместе жили в лесных шалашах, обучаясь рыть окопы, форсировать реку, наступать и обороняться. И вот всех забрали, а его нет. Переживал, отшучиваясь перед односельчанами, мол, одного хлопца на развод приказали в деревне оставить.
В середине декабря наконец получил повестку. Со станции Бердичев, меняя эшелоны, команда новобранцев добралась до разбитого вокзала в Риге, оттуда пешком до Елгавы. Там, на одном из хуторов месяц их готовили на связистов. Дальше — Шауляй — боевое крещение Мити. Фашисты сбросили многочисленный десант вблизи аэродрома. Наши войска должны были остановить продвижение противника вглубь территории. Связь со штабом обеспечивала группа, в которую входил Григоришин.
Он помнит, как они с Гришей Орусем ползком пробирались к нашей позиции и тянули новый провод, чтобы восстановить прерванное сообщение со штабом; как снаряд ухнул совсем рядом и Гриша, вскрикнув, остался лежать. Ему раздробило ногу, немного придя в себя, они выполнили задание, и Мите удалось дотащить раненного друга до своих. Врач полевого госпиталя сделал всё что мог, но спасти молодого бойца не удалось. После войны Дмитрий отвёз матери Оруся его документы и рассказал, как погиб её сын. Ветеран благодарен по сей день старослужащим, которые старались не посылать на особо опасные операции молодое пополнение, берегли пацанов: скоро страну поднять из руин, много сил понадобится.
Но был у Григоришина впереди ещё путь до Кенигсберга, а дальше — на Дальний Восток. Здесь в совершенно иных условиях и воевали по-особому. Грозные танки оказались почти бесполезны — им не удавалось пройти бесконечные сопки, они вязли в песках. Японцы дрались отчаянно и в плен сначала не сдавались, лишая себя жизни на глазах врага. Словом, хлебнули лиха наши пехотинцы да связисты, но они уже победили Гитлера и остановить их было невозможно.
Призвание
Для Григоришина война не закончилась с разгромом Японии. Его служба продолжилась в Белоруссии, на погранзаставе. До марта 1947-го Дмитрий охранял границу и боролся с бандформированиями: из белорусских чащоб выходили, чтобы перейти границу с Польшей, полицаи, бандеровцы, белорусские националисты, даже заблудшие немцы. Он был солдатом и не выбирал где служить. Не удивился, когда вручили предписание в Москву, в полк МВД в Богородском. С тех самых пор и жил в районе, видел, как тут строились дома, всё менялось, как жизнь налаживалась. Шесть с половиной лет Григоришин прослужил в солдатской шинели, возвращаться к крестьянскому быту было уже трудно.
Тем более, его способности заметили командиры: Дмитрий показывал отличные результаты в стрельбе. Стал выступать на соревнованиях сначала за часть, потом полк, дивизию, общество «Динамо», сборную СССР. На чемпионате Европы, между прочим, в разных дисциплинах взял медали двух достоинств — «золото» и «серебро», был неоднократным рекордсменом Советского Союза. Параллельно закончил десятилетку, школу тренеров, институт физкультуры, военное училище. Создал спортивную роту, дослужился до полковника в родной части в Богородском — 432-м Минском орденов Кутузова и Александра Невского полку войск МВД. Если бы не война, его судьба сложилась бы по-другому. Но после многих лет в блиндажах и казармах он решил, что защита Родины — самая достойная из профессий.
Гордится, что супруга, с которой прожили вместе почит шестьдесят лет, была фронтовой медсестрой, одна из двух дочерей и оба зятя — офицеры. Более того, внучка и внук — тоже стали офицерами. Словом, сложилась династия военных, у основания которой стоит дед-фронтовик.




Ольга Нахратян
Фото: личный архив Д.С. Григоришина
Проект подготовлен совместно с главой муниципального округа Богородское в г. Москве Константином Воловиком и советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов района Богородское
Предыдущая публикация цикла «Вспомним всех поимённо…»: Девушка в шинели Галина Королевич